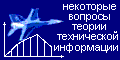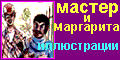|
Гильом де Лорис.
НАЧАЛО РОМАНА.
Заключены в Романе Розы
Любви искусство, сны и грезы.
Нам говорят, что сны —
туманы,
Миражи, сказки и обманы;
Но сонный часто нам туман
Покажет правду, не обман.
Иные смело утверждают,
Что, кто по снам своим
гадают, —
Предпринимают вздорный
, труд...
Пускай безумцем назовут,
Но мне мой опыт говорит,
Что сон предчувствие таит;
Сны — предсказанье благ иль
бед,
Что спят во мгле грядущих лет,
И часто все, что кажет ночь,
Узрим при свете мы
точь-в-точь...
Мне было двадцать лет, года,
Когда вся радость, вся беда
Для пас в любви одной; и раз
Сомкнувши крепко веки глаз,
Я спал, в виденья погружен,
И видел чудный, дивный сон.
Хочу теперь я услужить,
В стихи тот сон переложить, —
Амур так сам мне поручил.
И если б кто-нибудь спросил,
Как называется роман,
Где будет реять снов туман,
Тому скажу: роман здесь Розы,
Любви искусство в нем и грезы.
Мой труд, в котором все так
ново,
Пускай же примет не сурово
Та, для которой я пишу.
К ней все желанья возношу.
Так хороша, добра!
Должна
Быть Розой названа она.
Мне кажется, лет пять назад
Я увидал во сне тот сад;
Цветущий май узрел во сне,
Когда все радо так весне,
Когда в восторге все и вся:
И псе пичужки, пух нося,
С листвою новой все дубравы,
И все сады, кусты и травы.
Стоял сухим зимою лес, —
Как пышен в нем теперь навес;
Гордится новою красою
Земля под вешнею росою,
Забыв, что, бедная, зимой
Была одета мглой и тьмой...
Земля столь жалкой в зиму
стала,
Что обновить наряд взалкала;
Ей скоро был наряд готов,
Горящий тысячью цветов, —
Май платье сшил ей, подобрав
Живой узор цветов и трав;
Зазеленели все поля,
Закрасовалася земля.
Молчали птицы все, когда
В лесах царили холода
И ветер дул зимы ненастной, —
Теперь же, в дни весны
прекрасной,
Все песням предались невольно;
Уж соловей в лощине дольной
Всю ночь звучащий бисер
мечет,
И ласточка, виясь, щебечет,
И молодежь с огнем в крови
Сгорает грезами любви.
Но есть жестокие, — в дни мая,
Тревог любви не понимая,
Они не внемлют птичек хору.
В блаженную такую пору,
Когда покорно все весне,
Раз спал я ночью; снилось мне,
Когда я спал в тиши ночной,
Что встало утро над страной;
Поднявшись, я (сон рисовал)
Лицо и руки умывал,
И весел был и рад, как
школьник;
Открыл узорный я игольник
И нить потом, присев к столу,
В серебряную вдел иглу,
Хотел я за город идти,
Послушать птичек на пути
И посмотреть на дерева;
И, расшивая рукава,
Я весело тогда один
Пошел бродить среди равнин,
Где почва вся озеленилась;
И радость в грудь мою
теснилась;
И направлялся я к реке,
Чей ток журчал невдалеке.
Я знал, — лик вешний самый
нежный
Там, где простерся луг
прибрежный;
И вниз спустился я с холма,
Где вкруг реки кустов кайма;
Свежее, чем вода колодца,
Блистающая, вижу, льется
Широкой лентою вода, —
Такой не видел никогда.
Налюбовавшись видом, стал
В лицо плескать себе кристалл;
Потом смотрел я вглубь реки:
Песок, цветные камешки
Лежали в ясной глубине,
И наблюдал я там, на дне,
И блеск, и нити перламутра;
Кругом сиянье было утра;
И вдоль реки пошел я той
Тогда с подругою-мечтой.
Здесь автор скажет, как во сне
Он семь портретов на стене
Узрел садовой—без движений
Семь, как живых, изображений,
В великой созданных красе;
Он имена их скажет все, —
Он ряд тех образов постиг.
Лик первый—Ненависти лик.
Вдруг я увидел: со стеной
Зеленой сад передо мной.
В стене и на стене фигуры;
Мощь живописи и скульптуры
Дала изображений ряд
Так живо — будто говорят.
О всем, что видел в том саду,
Рассказ подробно поведу,
Насколько мне вести сказанье
Возможность даст
воспоминанье...
[Поэт подробно перечисляет семь
образов на стене: Ненависти, Предательства, Жадности, Скупости, Зависти, Печали и Старости.]
И рядом с Жадностью другое
Изображенье роковое
Узрел я: Скупости то лик.
Пред ней мой ужас был велик:
О, как страшна, как непригожа!
Худая, кости лишь да кожа;
Грязна, и пет лица старей,
И зелена вся, как порей.
Питаясь хлебом и водой,
Она казалась столь худой
И бледной, как бы уж мертва;
Лохмотьем стан прикрыт едва,
Как будто платье все в клочки
Ей растерзали псов клыки;
На ней вся юбка, боже мой,
Висела грязной бахромой;
Поверх накинуто манто,
Как будто с нищего снято.
И не куница, просто смех,
Был выпущен овечий мех,
И той одежде двадцать лет.
Считает худшею из бед
Ведь
Скупость платье сшить
свое.
До смерти носит все старье.
Мешок зажат у пей в руке,
Она умрет па том мешке,
Измучена стяжанья злом;
Завязан он таким узлом,
Что если надо вынуть грош,
Концов и в час не разберешь.
Вблизи был Зависти портрет.
Веселья доброго ей нет.
Она смеется, лишь когда
Падет на ближнего беда;
Дает ей радость только весть,
Что у того погибла честь,
А у другого все богатство;
В ней загорается злорадство,
Когда пред нею на глазах
Страдает кто-нибудь в слезах;
Ей радость, если знатный род
Погубит счастья поворот.
Но коль удачи кто достиг,
Стал или знатен, иль велик,
Тогда ей горе и тоска;
Так Зависть зла и так жестка,
Что коротает жизнь без друга;
Нет у нее отца, супруга;
Отец достигнет коль венца,
Возненавидит и отца.
|
И скоро взоры повстречали
Там па стене портрет Печали.
Судя по бледности ланит,
Тоска давно ее томит;
В лице заметна желтизна;
Подобна Скупости она
По бледности и худобе,
В своей безрадостной судьбе.
Тоскуя ночь, тоскуя день,
Как будто обратилась в тень
И потеряла цвет лица
В скорбях, что длятся
без конца.
Такого нет нигде страданья,
Такого нет негодованья,
Которым мучилась она,
И никакая не властна
Развеселить ее удача.
Она отвергла б, горько плача,
Все, что утешить бы могло;
И так ей было тяжело,
Что лик она терзала свой;
Томясь от муки роковой,
Как будто в гневе иль со зла
Она одежду порвала.
Власы, запутанные ею,
Космами падали на шею,
И лился горьких слез поток.
Никто без жалости б по мог
Зреть, как, исполненная муки,
Бьет в грудь она, ломая руки.
Вблизи был Старости
портрет:
Кто стар, уж тот анахорет.
Она в своем уединенье
В таком томилась расслабленье,
Что пищу взять могла едва.
Вся без волос почти глава;
Былой давно нет красоты,
И безобразны все черты.
Потери б не было большой,
Когда бы, мертвая душой,
Она и телом умерла:
Жизнь прожитая извела.
А было время — щеки рдели,
И очи пламенно глядели,
Свежи, как вишни, были губы,
Сверкали ровным рядом зубы.
Теперь их нет; висит губа;
И не прошла бы, так слаба,
Кряхтя, вздыхая и скуля,
И двух шагов без костыля.
Проходит время, день и ночь
И без стоянки мчится прочь,
Но столь украдчиво стремится
Оно от нас, что людям мнится
Оно стоящим недвижимо,
Меж тем как мчится, мчится
мимо.
Струится время, как вода,
Не возвращая никогда
Ни капли ни одной назад.
Немыслим прошлого возврат!
Ничто, ничто не пребывает, —
Утесы время вывевает,
И всем оно овладевает;
Оно питает, одевает,
И всех растит, и всех живит,
И всех и портит, и мертвит;
Оно отцов похоронило,
Оно царям грозит могилой,
И всех схоронит в свой черед,
Навек в могилу подберет.
Вот злые времени дары:
Мы так со временем стары,
Что нам не в мочь себе помочь,
И мы становимся точь-в-точь,
Как дети; время очищает
И вновь пас в детство
возвращает,
Затем что в возрасте мы хилом,
По чувству, разуму и силам
Становимся детьми вполне.
Таков был образ на стене;
То Старость дряхлая сама,
Уже лишенная ума,
Согбенная, полуживая;
На ней одежда меховая
Была накинута, — ив ней
Она продрогнет до костей:
Ужасно зябки старики
И часто дуют в кулаки.
[Рассмотрев начертанные на стене
картины, поэт входит в сад; его
встречает Праздность и объявляет
ему, что сад принадлежит Наслаж
денью. Миновав хоровод, который
ведет Веселье и где Амур пляшет с
Красотой, Щедростью и другими
прекрасными дамами, поэт подходит
к фонтану Любви.]
Когда сказала надпись мне,
Что здесь в кристальной
глубине
Нарцисс, себе на гибель, лик
Свою увидал, — так был велик.
Мой страх, что долго
над фонтаном
Боялся я нагнуться станом;
Но наконец, я превозмог
Свой страх и у фонтана лег...
И стал смотреть я в водоем
И на песок столь чистый
в нем,
Что был светлей он серебра;
Дивился, как была игра
Отображенья в нем чиста.
Все повторялось; все места,
И все, что близ, что вдалеке,
Легло в сияющей реке, —
Была, прозрачная до дна,
Портретом сада глубина.
Передо мной воды стекло
Опасным зеркалом текло.
В нем, в нем когда-то, жизнь
сгубя,
Гордец Нарцисс узрел себя,
Свое чело, свои глаза;
То — роковая бирюза,
И гибель в пей себе нашли
Немало юношей земли,
Немало мудрых, славных,
сильных,
Затем что силой чар обильных
Здесь изменяются сердца;
Ни ум, ни слово мудреца
Предела страсти не положит,
И. лучший врач уж не поможет;
Любви здесь воля и закон;
И сын Венеры, Купидон,
Здесь вкруг бассейна издавна
Любви рассеял семена;
На то зерно Амур не птиц
Влечет, а юношей, девиц.
И тот фонтан заворожен,
Любви фонтаном назван он;
В романах всяческих не раз
Ужо вели об нем рассказ.
Нет в мире лучшего бассейна,
Над ним прохлада тиховейна.
И день, и ночь течет вода,
Не иссякая никогда,
Отрада взору и губам,
Но двум широким желобам;
И вечно зелен, свеж вокруг
Водою той поимый луг;
Он и зимой не увядает,
Вода ж и летом не спадает.
Во глубинах же водоемных
Лежат кристалла два огромных.
И с восхищением большим
Я долго дивовался им.
Лишь солнце встанет в высоте
И свет прольет в кристаллы те,
Тогда зажгутся в них цвета,
И всех цветов там больше
ста;
Зеленый, красный, голубой, —
Окраскою тогда любой
Кристалл потопленный
сквозит,
И, как зерцало, отразит
Он ясно в светлой глубине
Все, что свершается вовне...
Я пролежал всю жизнь бы там,
Дивясь волшебным красотам;
И жадным взором бы держал
Все, что кристалл отображал.
Но в час недобрый (я потом
Не раз, не раз жалел о том,
Так много причинили зла
Волшебные те зеркала,
И если б только знать я мог,
Бежал, бежал со всех бы ног!),
В недобрый час я в лоне вод,
Среди других живых красот,
Куст розовый заметил вдруг.
В шипах вся изгородь вокруг,
Но к ней приблизиться
поближе
За всё сокровища в Париже
Не мог бы отказаться я.
И вот, дыханье затая,
Я подошел, и в этот миг
Волшебный запах роз проник
В ненарушаемой тиши
До самых недр моей души...
Я, наконец, дрожа, дерзнул;
Тихонько руку протянул,
Но уколол тут, как иглой,
Меня волчец, так больно,
злой,
Что руку я отдернул живо.
Колючим тернием, крапивой
Все заросло вокруг куртины.
Везде заострены щетины,
И к Розе не было тропы,
Где б не грозили мне шипы...
|